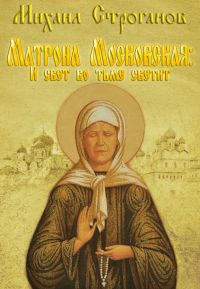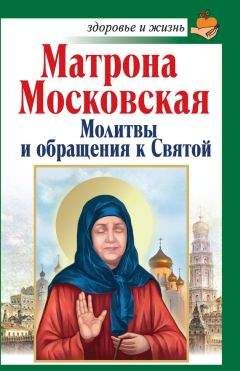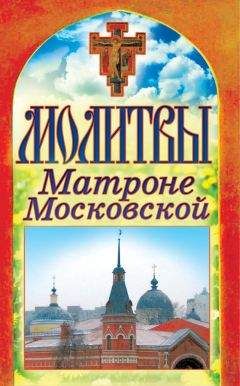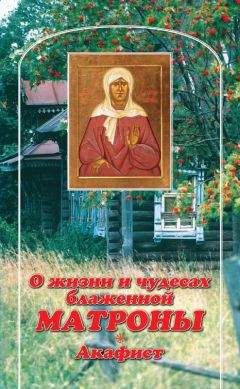С. С. Аверинцев - С. С. Аверинцев Поэты
Kunstreiche Componisten,
Stimmt an den Citharisten
Die Saiten auf das hochst.
(«Многоискусные слагатели музыки, настройте струны у кифаристов на самый высокий тон».)[245]
Можно пойти еще дальше и вспомнить нежные и наивнохитроумные гимны и воздыхания позднего латинского средневековья, например:
Gaude, plaude, clara Rosa,
Esto moesto сага prosa… —
(«Радуйся, ликуй, о славная Роза, будь для скорбного достолюбезным песнословием…»)
или:
Iesu dulcis et decore,
Rosa fragrans miro more…
(«Иисусе сладчайший и досточестный, Роза, благоухающая дивным образом…»)[246]
Miro more — вот где корни звуковой чувствительности Брентано; и эта укорененность принципиально отличает ее от позднейших фонетических экспериментов, которые как раз корней и не имели. Поэт знал цену звукам, потому что он знал цену старине.
Мы просим у читателя прощения: наши размышления над шестью строками — повторяем, выбранными наугад — так недопустимо затянулись лишь потому, что мы не видели другого способа конкретно, без голословных утверждений разъяснить, что мы имели в виду, когда назвали поэзию Брентано умной; умной именно как поэзию, то есть вне теорий, идей и всего «умственного». Если искать аналог этому умному способу обращаться со звуками в более позднюю эпоху и в иной поэтической традиции, то не у Эдгара По, а уж скорее у Верлена. Конечно, звуковая материя стиха немецкого и французского настолько не похожа, насколько могут быть две вещи не похожи друг на друга, — и все же сродство двух лириков как раз в отношении к этой материи доходит до знаменательных частностей. С Брентано Верлена сближает, например, широкое применение каламбуров, не имеющих ни малейшего касательства к «остроумию» в конвенциональном смысле слова:
И pleure dans mon coeur
Comme il pleut sur la ville… —
(«В моем сердце идет плач, как над городом идет дождь».)[247]
и в этом же стихотворении, чуть ниже «се cceur qui s'ecceure». Сюда же относится особая чуткость к нюансированному, колеблющемуся звучанию дифтонгов: «О bruit doux de la pluie» (и в конце следующей строки — «toits»); «Noire dans le gris du soir»; «ne savoir pourquoi». И у Верлена звуковая игра возникает на фоне очень простой, отнюдь не изысканой дикции[248], вызывая, хотя более отдаленным образом, чем у Брентано, мысль о фольклорной поэтике песни или пословицы: «Qui ne pleure que pour vous plaire», «Chante sa plainte»; «Sans rien en lui qui pese ou qui pose» («Которая плачет лишь для того, чтобы вам угодить»; «Выпевает свою жалобу»; «Не имея в себе ничего тяжеловесного или навязчивого»)— все самые знаменитые верленовские строки. Может быть, это сопоставление окажется не совсем бесполезным; всеевропейское, если не всемирное усвоение наследия французской поэзии шло гораздо более правильным образом, чем это происходило с немецкой поэзией, а потому не исключено, что есть читатели, которым оглядка на лиризм Верлена поможет найти подступы к лиризму Брентано.
Скорее неразумные, чем разумные, но неизбежные ассоциации с экспериментами новейшей поэзии по части абсурда и черного юмора вызывают такие образы брентановской поэзии, как колыбельная песенка, которую поют кукле в конце семнадцатой песни «Романсов о Розарии»:
Hast du gleich kein Herz im Leib,
Hast du doch zwei ganze Schuhe.
Schlummre, schlummre, ruhe, ruhe,
Traume von der bunten Kuhe!
Schlummre, sillies Ptippchen, schlummre,
Bist du dumm, es gibt noch Dummre,
Bist du stumm, es gibt noch Stummre,
Schlummre, schlummre, Piippchen, ein.
Bald miau! die Katzen schrein,
Machen Diebsund Liebesrunde,
Briinstig, giinstig ist die Stunde,
Zu dem Mondmann heulen Hunde.
Sieh! dort auf dem Wiesengrunde
Tanzen jetzt die Elfen munter
Unter Knabenkraut hinunter,
Das die Blatter niederstreut.
Kind, sie spielen Lotto heut,
Schreiben auf die Blattchen Nummern,
Und du darfst nur kuhnlich schlummern,
Denn dir kommt dein Gliick im Schlummer.
Du gewinnst die beste Nummer,
Eine Braut wirst du im Schlummer,
Und dich wecket ohne Kummer
Hochzeit, Hochzeit, hohe Zeit!
(«Если у тебя и нет сердца, зато у тебя есть целых два башмака. Задремывай, задремывай, угомонись, угомонись, и пусть тебе снится пятнистая корова!
…Задремывай, сладкая куколка, задремывай; пусть ты глупа — есть и поглупее, пусть ты бессловесна — есть и бессловеснее; задремывай, куколка, задремывай!
Порой кошки завопят: «мяу!«У них сходки — воровские и любовные. Час любострастный, час благоприятный; псы воют на лунного человечка.
Глянь–ка! Там, на лужке, под ятрышником, роняющим листья, весело заплясали эльфы.
Дитя, вот они играют в лото, надписывают на листочках номера, и ты можешь спокойно спать, потому что удача придет к тебе во сне.
Тебе достанется лучший номер; во сне ты станешь невестой, и тебя разбудит так, что мучиться тебе не придется, — свадьба, свадьба, праздничное время»!)
Казалось бы, чего тут особенного — полуночный гротеск; какому же романтику не хотелось сделать что–нибудь в этом макаберном роде? Так–то оно так, хотелось этого всем; но сделать — с такой простотой и экономией средств, с такой концентрацией выразительности, с такой убеждающей интонацией бреда и лепета — мог один Брентано. «Готические» мотивы с виселицами и привидениями давно стали для нас историко–литературным курьезом, а черная магия этих строк обескураживающе современна. Когда перечитываешь их, делается ясно, почему к Брентано тянулись сюрреалисты[249] — не только немецкие, явившиеся довольно поздно, но уже Гийом Аполлинер, который неплохо его переводил[250]. Для сюрреалистов — вполне объяснимая симпатия, для самого Брентано — не такая уж большая честь. Сюрреалисты разрешали своему воображению абсолютно все — и оказались перед пустотой; самая страшная расплата за такие игры — даже не безумие, а скука вседозволенности, когда уже ничего не испугаешься и ничему не удивишься, когда все можно и как раз поэтому ничего не нужно. «Бедный Клеменс» страшился своего воображения, как беса, и то брал на себя риск жить с бесом, еще воспринимаемый всерьез как риск, то пытался (с переменным успехом) заклясть беса экзорцизмами, усмирить его покаянием — и получил награду свою хотя бы в том, что тайна осталась для него тайной. Таковой она остается и для его читателя.
Брентано был одним из тех, кто первым пророчески ощутил возможность пустоты; если он отчаянным напряжением стремился уйти от этой возможности к твердым данностям традиции, будь то традиция фольклора или традиция догмата, так не потому, что у него не хватало отваги остаться с пустотой наедине, а потому, что в нем жило нечто иное. Такие люди, как он, стояли между временами — положение драматичное, но плодотворное. Прошлое отодвинулось настолько, что его можно было увидеть, и увидеть впервые; но оно еще не ушло в ирреальность. Все оплачивалось муками и обходилось дороже, чем через сто лет; но, оплаченное как следует, оно и на самом деле было дороже.
Внутри самого поэтического слова Клеменса Брентано новая свобода, обещающая неслыханные возможности и грозящая утратой почвы, борется со старой укорененностью. Напряжение этой борьбы порождает энергию стиха.
Гилберт Кит Честертон, или Неожиданность здравомыслия[251]
Мне не было нужды соглашаться с Честертоном, чтобы получать от него радость. Его юмор такого рода, который нравится мне больше всего. Это не «остроты», распределенные по странице, как изюминки по тесту булочки, и уж вовсе не заданный заранее тон небрежного пошучивания, который нет сил переносить; юмор тут неотделим от самой сути спора, диалектика спора им «зацветает», как сказал бы Аристотель. Шпага играет в лучах солнца не оттого, что фехтовальщик об этом заботится, просто бой идет не на шутку и движения очень проворны. Критиков, которым кажется, будто Честертон жонглировал парадоксами ради парадоксов, я могу в лучшем случае пожалеть; стать на их точку зрения я неспособен.
К. С. Льюис. Настигнутый Радостью. Глава XII.
У Честертона есть поэма, которая называется «Белый конь»; ее герой — Альфред Великий, английский король IX века, защищавший честь своего народа, навыки законности и хрупкое наследие культуры в бурную пору варварских набегов. О стихах Честертона вообще–то не очень принято говорить всерьез, но поэтическое качество «Белого коня» в довольно сильных выражениях хвалил недавно умерший поэт Оден, признанный мастер современной поэзии, притом человек отнюдь не похожий на Честертона по своим вкусам и тенденциям, едва ли не его антипод; тем примечательнее такое суждение. Сейчас, однако, нас занимает не то, хороша поэма или дурна, вообще не она сама по себе, а только свет, отбрасываемый ею на все остальное, что написал ее автор. Дело в том, что именно там он выговорил очень существенные для него вещи с такой прямотой и доверительностью к читателю, как мало где еще; недаром работа над поэмой началась со строфы, пришедшей во сне, и сопровождалась сильным эмоциональным напряжением. Похоже на то, что «Белый конь» —для Честертона «самое–самое», заповедная середина того достаточно пестрого целого, которое слагается из шумных и многоречивых статей и эссе, из рассказов и романов. Поэма не переводилась и едва ли когда–нибудь будет переведена — самый ее размер, по–английски очень традиционный, по–русски «не звучит». Пусть несколько слов о ее смысле послужат как бы виньеткой к этой главе.